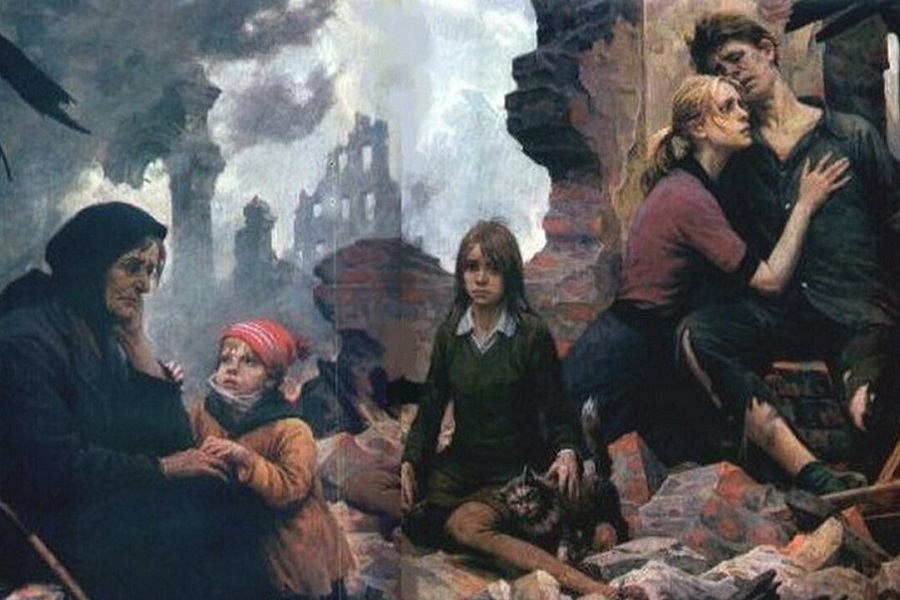чем ближе к богу тем больше страданий
«Чем глубже скорбь, тем ближе Бог»
Среди православных христиан хорошо известна фраза – отрывок из стихотворения, принадлежащего перу известного русского поэта Аполлона Майкова: «чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Она – о том, что в моменты жизненных испытаний, тяжелых скорбей и болезней присутствие Бога в нашей жизни мы должны ощущать особенно достоверно, очевидно и убедительно. И такое ощущение, вместе с пониманием близкого соучастия Бога в наших скорбях, должно обнаруживаться в нашем сердце живым, укрепляющим и утешающим нас действием…
Должно, но ощущаем ли мы это на деле? Сегодня священник все чаще сталкивается с обратным: обилие скорбей и испытаний вызывает у человека сильное недоумение («Почему это со мной? Я же…»), подавляет, подводит его, немощного, к сомнению в действительности Промысла Божия, ослаблению веры и, как следствие, ставит на грани отчаяния. И я говорю о верующих и церковных людях, тех, кто при возникновении таких духовных проблем в первую очередь и бежит к священнику за разъяснением.
Почему так происходит? Почему эти важные слова поэта, которые звучат для верующего сознания как неоспоримая, очевидная истина, нередко остаются для христианина лишь формальной истиной, не имеющей лично для него жизненного подтверждения, становятся истиной «мертвой», на которую он не может опереться? Это немаловажный вопрос, требующий ясного ответа.
Наше время, по милости Создателя, изобилует скорбями. Они, будучи орудием Промысла Божия, в то же время «ухитряются» служить «двум господам», т.е. становятся «верными служителями» врага человеческого рода. Именно этим орудием наш враг пользуется наиболее эффективно, подрывая веру немощного человека в мудрость Промысла Божия, вызывая малодушие, ропот, отчаяние. Все то, что, оставляя человека со скорбью наедине, лишает его спасительного плода от действия скорби. В таких ситуациях для человека чрезвычайно важна поддержка, которую он нередко просто не находит. Близкие люди часто оказываются беспомощны, особенно когда скорбь сильна: нередко им просто не хватает мудрости, такта, собственной силы духа для того, чтобы действительно оказать поддержку скорбящему, а не раздражать своим присутствием и не утомлять гиперопекой. В такие минуты человеку на самом деле, как глоток свежего воздуха в задымленном помещении, необходима ПОДДЕРЖКА, которую по-настоящему может оказать лишь Тот, Кто держит весь мир в Своих руках.
Только как ее получить? Почему в минуты, когда скорбь представляется нам невыносимой и мы балансируем на грани отчаяния, мы можем совсем не ощутить той укрепляющей Десницы Господа, Которая, как мы это не раз слышали, все содержит в Своей власти?
Может быть, потому, что сами мы в эти тяжелые моменты делаем что-то не так? Может быть, мы сами не идем туда, где эта поддержка обретается? Не хотим поднять даже малого духовного труда, ожидая, что подобное познание близости Господа должно быть нам дано как бы «на блюдечке с голубой каемочкой»? Ответ на этот вопрос поищем в Священном Писании.
А Священное Писание призывает человека в минуты скорби обращаться к Богу: «Призови Мя в день скорби твоея, и изму Тя, и прославиши Мя» (Пс. 49,15). Господь наш Иисус Христос, Который во всей полноте испытал все те страдания и невзгоды, с какими в своей жизни сталкиваемся и мы, показал нам пример исполнения призыва псалмопевца. Как истинный Человек, Он также нуждался в укреплении от Отца Небесного, и неоднократно на страницах Евангелия мы видим, что Он делает, чтобы такое укрепление получить. Евангелие повествует, что Христос, «находясь в борении, прилежнее молился» (Лк. 22, 44). Часто Он уходит от учеников, чтобы долго молиться в уединении, нередко это происходит ночью. Именно глубокая, длительная, усердная молитва к Отцу укрепляла Христа на Его Крестном Пути. И это первое, что нам необходимо осмыслить.
Святые угодники Божии, жизнь которых всегда изобиловала скорбями, именно в сугубой и продолжительной молитве, в подражание Христу, находили для себя укрепление. Преподобный Ксенофонт (VI в.), узнав, что корабль, на котором ехали его дети, разбит бурей, прибег к особой, длительной молитве. После всенощного келейного бдения он получил от Бога особое утешение и извещение о том, что его сыновья живы и их осеняет особая милость Божия (прпп. Ксенофонт и Мария, пам. 26 янв.).
К такому же деланию молитвы в минуты скорби призывает христиан святитель Игнатий (Брянчанинов):
Нашествие скорбей есть не что иное, как обнаружение Господа в нашей жизни
Всякий ли поступает так в тяжкие минуты своей жизни? Увы, не всякий и не всегда. Зачастую мы уже при начале серьезных скорбей кидаемся в какую-то панику, которая буквально выбивает нас из привычных «берегов». И это вполне объяснимо: нашествие скорбей есть не что иное, как обнаружение Господа в нашей жизни (как говорят в народе: «Господь посетил»), а подобное обнаружение может поначалу напугать. Вспомним апостолов, которые испугались явления Господа посреди бури. Вспомним и то, когда они успокоились. Лишь тогда, когда узнали Господа. И отсюда делаем для себя важный вывод: начало успокоения при нахождении скорби – в признании скорби Божиим посещением. Так говорит об этом святитель Игнатий:
Лишь когда мы немного успокоимся и поймем, что у Господа «все под контролем», нам, вдохновленным этой истиной, становится доступной молитва, но эта молитва должна быть усерднейшей, т.е. продолжительной, сердечной, исполненной непоколебимой надежды на услышание. Лишь такая молитва приведет к избавлению:
Ощущение близости Господа отнимает у скорби ее силу
«Избавление не замедлит»… Означает ли эта фраза святого, что по мановению Десницы Божией уйдут удручающие нас обстоятельства? Наверное, не означает, тем более что в некоторых случаях, таких, как потеря близкого человека, это и невозможно. Но слова святителя открывают нам ту глубочайшую истину, что ощущение близости Господа и Его соучастия в нашей скорби отнимает у скорби ее силу. И не только отнимает у нее силу, но посреди самой скорби насаждает в душе источник радости и утешения. Вот как писал об этом святитель Игнатий, приводя в пример святых мучеников:
Бог становится к нам ближе в той мере, в которой стремимся к такой близости мы сами
«Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Глубокие раны важны и нужны нашему религиозному опыту. Они для нас – наступившая возможность ощутить Бога и найти Его, «хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17, 27). Такая возможность определена Промыслом Божиим, коего свойство есть исправление и обращение к благим последствиям таких моментов нашей жизни, которые причиняют нам страдания. Однако это именно возможность, а не неизбежность. Нередко случается так, что человек, имея неверные представления о себе и о Боге, в минуты тяжкой скорби избирает неверный путь, а потому начинает роптать, озлобляться, отходить от веры – и, как следствие, подходит к отчаянию. И подобная духовная беда по своим последствиям значительно превосходит ту начальную причину, которая ее спровоцировала.
Почему страдают невинные?
Почему Бог допускает страдание невинных? Есть ли в этом смысл? Как можно совместить веру во всесильного, любящего Бога и такую вопиющую несправедливость?
Размышляет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Страдания переполняют землю
Когда встречаешься с людьми, которые пережили страшную трагедию, говорить о страданиях трудно. Если бы я сейчас смотрел в глаза матери, у которой погиб ребенок, мужу, у которого погибла жена, сыну, у которого погибла мать, я не знаю, что бы я сказал… Хотя я сам пережил подобное и понимаю, как это тяжело. У меня умерла жена, умерло трое моих внуков в младенчестве. Мир становится черно-белым вместо цветного. Еда теряет свой вкус, когда ты рядом с близким человеком переживаешь опыт умирания. Хотелось бы, чтобы страданий не было, чтобы все жили счастливо, весело, радостно, чтобы никто не болел раком, рассеянным склерозом, чтобы люди никогда не попадали в автокатастрофы, чтобы не разбивались самолеты. Но тем не менее страданий и скорби никому не миновать. Они есть в жизни. Как к ним относиться?
Заслуженное страдание легче принять
Человечество — единый организм
Нужно вспомнить, дорогие друзья, что, когда был создан этот мир, в нем не было страданий. Бог страданий не сотворил. Как тогда они появились? Некоторые говорят: «Бог же знал, что Адам согрешит. Почему же Он не создал Адама таким, чтобы он не совершил греха?» Ответ простой: Бог создал нас свободными. Мы не запрограммированы, как машины, на добро. Мы сами решаем, куда пойти, что сделать, как поступить, как жить. Мы даже можем решить, верить нам в Бога или нет — такая величайшая свобода нам дана. Бог есть, а некоторые люди абсолютно убеждены, что Его нет.
Но почему же мы-то страдаем от того, что Адам неправильно воспользовался данной ему Богом свободой? Мы ведь не ели от древа познания добра и зла? Хотя некоторые, наверное, уже ели… Ну, младенцы точно не ели. Почему же тогда рождаются детки с сердечными патологиями, с уродствами, несовместимыми с жизнью? Разве младенцы в чем-то виноваты?
Мы созданы Богом как единый организм. Грех или святость одного отражаются на всех остальных. Это только кажется, что мы отделены друг от друга пространством, у нас разный интеллект, разный внешний вид, разный цвет кожи, разные пристрастия. На самом деле человечество — это единый организм, созданный Богом по Своему образу — образу Пресвятой Троицы, единой в Любви. То есть мы все личности единой человеческой природы и связаны очень тесно. Мы все родственники, мы с вами братья и сестры. И те, которые жили, и те, которые будут жить, и те, которые сейчас живут по всей земле, — мы все одно. И поэтому то, что нарушается в одном, оказывает влияние на других. Поскольку Адам — наш общий праотец, его поступок как некая генетическая болезнь передается из рода в род, из поколения в поколение.
Почему Бог не наводит порядок?
Но тогда можно сказать: «А почему Бог, в конце концов, не наведет порядок? Ведь он знает, кто больше грешит, а кто меньше. Среди нас, возможно, находятся будущие преступники, которые совершат тяжкие преступления. Так может быть, лучше сразу их ликвидировать, чтобы они не мешали другим?» Мы этого не знаем, но Бог-то знает. Почему же Он допускает этим людям жить?
Дело в том, что мы с вами живем во времени, которое является путем в Вечность. Жизнь, которой мы сейчас живем, это не та настоящая жизнь, для которой мы созданы Богом. В этот мир, где мы с вами находимся, мы были изгнаны из рая после совершения греха. И наше пребывание здесь временно. Это не то место, где мы можем хорошо устроиться, купить себе красивую мебель, дачу, машину, найти замечательную жену или мужа, устроиться навечно и пользоваться всеми этими благами.
Жизнь — это дорога, где нам нельзя собирать много вещей, это дорога, которая однажды кончится. Бог ждет конца истории, чтобы подвести некую черту. Ведь если прямо сейчас начинать разбираться, кто прав, кто виноват, боюсь, всем нам не поздоровится. У каждого из нас есть грехи, и я далеко не святой. Если человек священник или ходит в церковь, это не значит, что он святой, как некоторые думают. Чтобы совершить суд, нужно закончить с этим миром вовсе, остановить время и разбираться с каждым, кто жил и кто еще живет. И это произойдет обязательно, но Бог ждет, когда покаются люди, которые пока еще не пришли в сознание греха.
Некоторые даже думают, что Бог как бы завел некие часы, и мы теперь тикаем здесь сами по себе, а Он сверху смотрит и не вмешивается. Но как Он терпит столько зла? Почему он не вмешивается? Какой-то жестокий получается Бог, скажете вы. Куда же Он смотрит? Где Он? И тут мы подходим к самому главному.
Бог на кресте
Один мудрый батюшка, когда его спросили, где же Бог, очень просто сказал: Бог на Кресте. Бог приходит на землю, становится человеком и проживает человеческую жизнь со всеми ее трудностями, приняв на себя даже последствия первородного греха, хотя Он чище и безгрешнее, чем новорожденный младенец. Безгрешному человеку жить среди нас, грешных, очень тяжело. Вы читали «Идиота» Достоевского? Это была попытка показать образ святого человека в нашем грешном мире. И чем кончилось? Герой просто сошел с ума.
Когда Господь был на земле, Он так уставал, что спал на корме лодки, которая буквально тонула в волнах. Перед тем как принять на Себя грехи всего мира, перед крестным страданием, Господь так горячо молился в Гефсиманском саду, что пот его был, как капли крови.
Он был так избит, что Сам не мог нести крест, Ему помогал Симон Киринейский. Когда Он нес верхнюю перекладину, которая была привязана к Его рукам, и когда, обессиленный, спотыкался по пути на Голгофу — Он падал лицом в пыль, частички этой пыли были найдены на плащанице. На главу Его надели терновый венец с острыми шипами, они впивались в кожу, и струи крови текли по Его лицу.
Физическое страдание усугублялось еще и нравственным, духовным страданием, которое непостижимо для нас — Он произнес на кресте фразу, которая всегда приводит меня лично в состояние внутреннего содрогания, на кресте Бог-Сын обращается к Богу-Отцу: «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?»
Нельзя смиряться со злом
Когда мы столкнемся с несправедливостью, со старостью, со смертью, мы можем обратиться с молитвой ко Христу, вспомнить Его страдание за нас, и помощь придет, хотя, может быть, и не сразу.
Это не значит, что страдание мгновенно кончится. Оно попущено Богом, чтобы очистить нас от греха. Наша душа, оскверненная грехом, иначе очиститься не может. Как нельзя без щетки вычистить въевшуюся грязь, так и страдание очищает въевшуюся в душу грязь греха, оно имеет для нас очистительный смысл, оно делает человека совершенным. Ведь когда человек страдает, он являет свою любовь, и это еще один смысл страдания.
Я закончу рассказом об одной книге, которая раскрывает тайну страдания. Это книга Иова: в ней рассказывается о том, как жил на земле один праведник, он был богат и у него было много детей — его звали Иов. И дьявол сказал Богу: «Иов Тебя любит, потому что у него все есть, отними у него богатство, посмотрим, как он будет Тебя любить». И вот у Иова все рушится, гибнут дети. Жена говорит ему: «Похули Бога!» А Иов отвечает ей: «Бог дал, Бог взял». Потом он заболел тяжелой болезнью. Жена ему говорит: «Похули Бога и умри». А он говорит: «Надо все принимать от Бога, хорошее и плохое». Пришли к Иову его друзья и говорят: «Это тебе все за грехи, ты покайся, и все пройдет». Но Иов не знал за собой греха. Он принял свою судьбу, свое страдание, и в конце Бог явил ему Себя и открыл некую тайну. Тайна примирения с Богом открывается человеку непостижимым образом.
Нельзя смиряться со злом, нужно обязательно стараться, чтобы в мире было меньше страдания, нельзя отойти в сторону, нужно помогать людям. У нас молодые люди — добровольцы ходят помогать в областную детскую больницу. Там есть дети из детских домов, и их никто не навещает. Добровольцы ходят к ним каждый день, играют, берут на руки, заботятся о них.
Если человек не соглашается с тем, что в мире есть страдание, то он должен стараться, чтобы страдания в мире стало меньше, а любви стало больше. Нужно не просто размышлять, а самому начать над этим трудиться, молиться и состраданием, помощью другим умножать в мире любовь. В этом делании и в молитве ко Христу, распятому и воскресшему, и открывается тайна страдания.
Зачем Бог попускает совершаться ужасным страданиям людей?
Зачем (почему) Бог это попускает, особенно — что касается безвинных детей и младенцев?
Проблема несправедливого страдания не нова. Над её разрешением бились философы разных эпох. С этой проблемой сталкивается каждый человек, переживший горе потери близкого человека. Вот именно на это личное горе и стоит обратить внимание. Как бы ни увлекательна была философская проблема «теодицеи» (оправдания Бога), когда душа рвётся на части и жизнь теряет всякий смысл, стройные логические аргументы даже для сугубо рационального человека не лучшее лекарство.
Положение верующего в этой ситуации доходчиво описал западный богослов: «Вы никогда не знаете, насколько сильно вы верите во что бы то ни было, пока истинность вашей веры не станет вопросом жизни или смерти. Легко утверждать, что данная веревка достаточно крепкая, если вы собираетесь обвязать ею коробку. Но, предположим, на этой же веревке вам предстоит повиснуть над пропастью. Вот тут-то вы и поймете, насколько вы уверены в крепости вашей веревки». Слишком часто крепости нашей верёвки – веры во Христа – оказывается недостаточно для того, чтобы понять и принять попущенное нам испытание.
Это касается любой беды. Но особенно нам больно, когда дорогой нам человек погибает без видимой нам причины, т.е. безвинно. Одно дело, когда родители скорбят о смерти сына-террориста, и совсем другое, когда отец или мать узнают о смерти своей маленькой дочки от рук маньяка-насильника. Ненависть к убийце, жажда мести доставляют некое душевное удовлетворения, но не помогают ответить на главный вопрос: «За что?».
Первое, что нам необходимо сделать в поисках ответа, это честно признаться себе – мы больше скорбим о себе, а не о погибшем, особенно когда речь идёт о погибшем невинно. Это нам больно, это наш мир опустел, и наша жизнь потеряла краски. И даже если мы тревожимся о посмертной участи погибшего, то эта тревога не является главной составляющей нашего горя. Незаслуженность этой личной боли делает её поистине невыносимой. В нашем сознании очень крепко «сидит» ветхозаветный принцип талиона – «око за око, зуб за зуб», на котором основана вся правовая система. И если я никого не убивал, то по какому праву убивают моего ребёнка?
Один из ярких примеров осознанного бунта – судьба Ивана Карамазова, одного из главных героев последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». Никто из его близких не погиб невинно. Вырос он в православной стране, возле стен известного монастыря. Вырос лишенным родительской любви и, став взрослым, очень озаботился проблемой невинного страдания детей. В то время человечество ещё не познало «чуда» ювенальной юстиции, и дети даже в православном государстве были людьми второго сорта. Родитель был полностью властен в судьбе своего ребёнка, и в случае его насильственной смерти подлежал уголовному наказанию, как за гибель скота!
Два противоположных примера проживания трагических жизненных обстоятельства мы находим в лице ветхозаветных праведников Авраама и Иова.
История Авраама великого ветхозаветного патриарха, родоначальника богоизбранного народа начинается с его личной встречи с Богом, в результате которой он начинает Богу доверять во всём, даже в том, что полностью противоречит всякой логике, рассудку и любым преставлениям о справедливости. Сначала Авраам, следуя призыву Бога, оставляет место своего комфортного обитания и отправляется в полную неизвестность с одной лишь надеждой на то, что там Бог не только устроит его жизнь, но и подарит ему, престарелому мужу престарелой жены, наследника, от которого произойдёт многочисленный народ. В скором времени после рождения у столетнего Авраама сына Исаака, Бог повелевает именно этот плод обетования принести в жертву.
Здесь мы можем сказать, что Аврааму было легче, чем нам в подобной ситуации. Его – великого праведника – Бог почтил непосредственным общением с Собой. Не даёт нам Писание и никакой информации о внутренней борьбе Авраама перед закланием Исаака. Мы видим человека, безраздельно доверяющего Богу, но не понимаем, как он к этому пришёл. Обрести такое понимание нам поможет библейский рассказ о другом ветхозаветном праведнике – Иове.
Этот ответ вызывает восхищение, но не помогает нам решить проблему боли от несправедливой утраты, ведь нас в горе переполняет, как минимум, уныние, а то и откровенный ропот на Бога. Ответ мы находим в основной части Книги Иова. Дальнейшее поведение Иова после поражения его проказой может со стороны показаться откровенным бунтом против Бога. Он проклинает день своего рождения, не признаёт за собой никакой вины, за которую его можно было бы так наказать. И самое главное – он требует суда с Богом, требует встречи с Ним лицом к лицу. И Бог открывает ему Себя, не отвечая при этом ни на один из поставленных Иовом вопросов о справедливости его страданий.
Но Иову уже и не нужны эти логические ответы! Он встретился с Богом лицом к лицу и больше ему ничего не надо – ни объяснения причин страданий, ни каких-либо за них компенсаций: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов.42:5,6).
В истории Иова и заключается ответ на поставленный вопрос. Нет на него логического ответа. Тайну страдания применительно к делу спасения каждого человека знает только Бог. Только Он видит сердце того, кто погибает без видимой вины, равно как и сердце того, кто остаётся жить, мучаясь болью утраты. Богу можно только довериться во всём, как это сделал Авраам. Но путь к истинному доверию лежит только через личную встречу с Богом в своём сердце. За эту встречу надо дерзновенно бороться на пределе своих сил. Человек, боясь потерять свой жизненный комфорт, часто уклоняется от этой встречи, памятуя, что «страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр.10:31). И только когда вся земная жизнь рушится, неимоверная боль помогает человеку вступить в борьбу. Не с Богом, а за Него, за живое общение с Ним.
Мог бы Бог выбрать другой, не столь экстремальный способ нашего духовного лечения? Мог бы. Богу подвластно всё, но не всегда Он хочет проявлять Свою безграничную власть. Бог захотел и создал человека по своему образу, наделив его богоподобной свободой, свободой служить Богу и уподобляться Ему во всём и свободой творить зло, уподобляясь дьяволу. Нельзя принудительно сделать человека добрым, поскольку тогда он перестанет быть человеком. Нельзя уничтожить только плохих людей в надежде, что хорошие после этого заживут хорошо. Способность творить зло заключена в каждом человеке, даже в невинном новорожденном младенце. И только Бог знает, как она в дальнейшем проявится.
Поэтому уничтожить зло, порождающее страдание, означает стереть человечество с лица земли либо превратить его в стадо совершенно послушных, а потому безгрешных животных. Не Бог источник зла. Человек вслед за Адамом сам распоряжается своей богоподобной свободой во вред всей вселенной. И все люди связаны друг с другом, как в деле спасения, так и в гибельном падении. Великий праведник помогает своей молитвой множеству людей сделать выбор в пользу Бога, а отъявленный злодей своим примером тянет их вслед за собой в ад, который они, опять же, выбирают вполне добровольно.
Непосредственная встреча с Христом снимает все логические вопросы о несправедливом страдании, потому что Он Сам испытал на себе таковые, причём в степени, неизмеримо большей, чем страдания любого внешне невинного человека, поскольку даже новорожденный младенец не лишён общей повреждённости человеческой природы «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Екл.7:20).
Православная Жизнь
Как научиться понимать страдания. О формуле страданий – Артем Перлик. Продолжение.
Святой Григорий Богослов: «Смысл всякого страдания, всякого бедствия в том, чтобы человек через покаяние и исправление соединился с Богом».
Соединение с Богом дарует душе блаженство, которое не может отнять никакая скорбь.
Другой важный момент – страдания праведников и младенцев. Зачем это нужно?
На вопрос о том, почему страдает добрый человек, отвечает один старец, которого я спросил об этом. Он говорит, что добрый, пройдя через страдания, становится ещё добрее, и светлее, и праведнее.
Один из подвижников поучает: перейдя из временной жизни в вечность, мы будем больше всего благодарны за страдания, а апостол Павел пишет: «…вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Почему так? Потому что у настоящей любви есть два признака: желание всегда быть с любимым и желание пострадать, пожертвовать собой для любимого.
Удивительное дело, но то, что обычному человеку представляется страданием, совсем не таким кажется любящему. Пример: роды причиняют маме боль, но она не помнит скорби от радости, ибо родился человек в мир. А воспитание, ухаживание за ребёнком – разве это не больно? Но для мамы это не больно, потому что она смотрит любовью.
Вот пример: у православной мамы двое детей. Один из них психически болен, а другой здоров. Больной постоянно причащается, исповедуется и молится. А здоровый – бездельник и хулиган. Кто из них более здоров для Бога?
И ещё история. В дом престарелых неблагодарный сын привёз свою маму – Евфросинию. Она очень страдала и стала ходить в находящийся рядом храм. Но квартира, хозяином которой стал её сын, не принесла ему счастья. Он спился, был изгнан из жилища и умер под забором. Единственным человеком, молящимся о нём, была мама. И посмотрите, как премудро Бог всё устроил – и Евфросинию привёл в Церковь, и, быть может, спасёт и сына за молитвы мамы.
Многие современные подвижницы пришли в Церковь именно через страдания: их били мужья, болели дети. Они стали жить чисто и свято. И сейчас, оглядываясь на свою прожитую жизнь, говорят, что рады тому, что Бог попустил им прежнюю боль. Допустим, одну женщину муж-садист с ребёнком на руках выгнал из дома, но сейчас одно имя её вселяет надежду. Она возвысилась над страданием и пришла не только к принятию Бога, но и к преображению.
Поэтому святой Василий Великий говорит, что Господь не столько избавляет праведников от неприятностей, сколько делает выше всего приключающегося. Великое дело, когда через страдания ты пришёл к свету и этот свет навсегда остаётся с тобой.
Авва Дорофей поучает: «Всё, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренномудрием и надеждой на Бога, веруя, что всё, что ни делает с нами Бог, Он делает по благости Своей, любя нас, и делает хорошо, и что это не может быть иначе хорошо, как только таким образом».
А святой Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что Господь может исправить человека через страдания. Но есть на земле и такие люди, которых боль только озлобила бы, а не преобразила. И добрый Господь, не желая их мучить, дарует им земное счастье без страданий. Они грешат и не бывают наказуемы в этой жизни. Иоанн Кассиан называет таких людей несчастнейшими, ведь Сам Бог не видит возможности исцелить их душу через страдания.
Второй повод для страдания таков: бывает, что добрый человек без страдания сбился бы с пути, не смог бы возрастать в добре. Люди этого не видят, а Бог видит.
Страдание связано с любовью ещё и как сострадание. Клайв Льюис пишет: «Нельзя пойти к несчастной матери и утешать её, когда ты сам не страдаешь». Нельзя утешить другого, если тебе за него не больно. Это знают мамы и святые. Когда к старцу Гавриилу Стародубу приходили за утешением, он начинал любить человека всем своим естеством, и в этом было высшее утешение. Так он учил и других: если хочешь кого-то утешить, полюби его по-настоящему – и тогда чужая боль становится твоей, а другой обретает вместо скорби радость.
Одна девушка, духовная дочь Нектария Оптинского, спросила, правда ли, что он берёт чужую боль на себя? И святой ответил, что это правда, ведь иначе нельзя утешить человека.
В любящем самое главное то, что он есть.
К батюшке Серафиму Саровскому приходили прежде всего потому, что он есть и он любит. Это было выше всех наставлений. Его слова, обращённые к каждому: «Радость моя!» – лучшее свидетельство его сердца.
Однажды один монах спросил батюшку Серафима о рае, и святой ответил, что Господь брал его в рай и показывал райские обители. Лицо Серафима, когда он говорил о рае, просветилось небесным светом, и он сказал: «Если б Вы только знали, какая радость, какая сладость ожидает нас на небе, то согласились бы жить в келье, по горло наполненной червями, и согласились бы, чтобы эти черви всю земную жизнь Вашу Вас ели, только чтоб не лишиться той радости на небеси».
Из этих слов вытекает ещё и то, что часто человеку тяжелы страдания из-за маловерия, а когда укрепляется вера, тогда и на страдания смотришь по-другому, как на Божий дар.
Страдания тяжелы, пока их не примешь как исходящие от Бога лично для тебя.
Страдания младенцев тоже связаны с любовью, ведь дети и родители – одно целое, Бог попускает что-то потерпеть младенцу ради очищения его родителей.
Епископ Митрофан Никитин говорил, что евангельский расслабленный страдал 38 лет – и не напрасно. Он встретил Христа. И Иов встретил Бога после страданий.
Он никогда не попускает и не попустит зла тем, кого любит.
«Виденью противопоставим веру, ночи, оканчивающейся в слезах, – рассвет утешения» (батюшка Иоанн Крестьянкин).
«Всякое страдание благо ради незаменимого Господа» (святой Иустин Сербский), а потом всегда наступает утешение и становится ясно, что даже в минуты кажущейся смерти и мучения Он «каждую секунду ласкает любовью сердца всех людей на земле» (старец Паисий Афонский). Потому что где Бог, там не может быть плохого, а Он – со всеми и всех Ему жалко. «А если кому-то кого-то жалко, – говорит святой Силуан Афонский, – значит, всё будет хорошо».
И ещё, самое важное и утешительное для нас. Наша вера – вера радости. Христос говорит апостолам: «Радуйтесь». И эта радость внутренняя, не связанная ни с какими внешними обстоятельствами.
Клайв Льюис пишет: «Вся злоба, вся зависть, все одиночество, вся похоть – ничто перед единым мигом райской радости. Зло даже злом не может быть в той полноте, в какой добро есть добро».
И Бог, по слову святого Серафима Саровского, не хочет, чтоб мы жили в одних только страданиях, Он желает нам радости и посылает нам утешение, которое безмерно выше любого страдания – Он посылает нам множество христиан, которые нас любят по-настоящему.
Христос утешает. Когда Он говорит ученикам: «В мире будете иметь скорбь» – то тут же добавляет в утешение: «Но мужайтесь: Я победил мир». То есть Господь не хочет, чтобы мы мучились и огорчались. Страдания нужны нам, но одновременно Бог не желает, чтобы мы страдали.
То, что Христос утешает, означает, что и ученики Его тоже должны утешать и нести ношу другого.
Святой Григорий Богослов: «Здоровый и богатый пусть утешит больного и бедного; кто не упал – упавшего и разбившегося; весёлый – унывающего, наслаждающийся счастьем – утомлённого несчастиями. Воздай что-нибудь Богу в благодарность за то, что ты – один из тех, кто может оказывать благодеяния, а не из тех, кто нуждается в благодеянии, что не ты смотришь в чужие руки, а другие – в твои. Будь для несчастного богом, подражая милосердию Божию. Если и ничего не имеешь, поплачь вместе со страждущим: великое лекарство для него – милость, исходящая из твоего сердца и искренним состраданием намного облегчающая горе».
А если мы сами страдаем? И тогда надо помогать другим. Когда умерла жена святого Алексея Мечева, он очень страдал, и святой Иоанн Кронштадтский сказал ему разделять горе других людей, утешать их. Святой Алексей так и сделал, и жизнь его преобразилась – он вырос в святого старца. Соучастие в боли другого. Боль другого – моя. Только настоящей любовью можно утешить по-настоящему.
Старец Софроний Сахаров обобщает тему страданий, связывая их с благодатью: «Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживёт весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая исстрадалась».
И он же говорит: «Полнота истощания предваряет полноту совершенства».
Старец Иоанн Миронов рассуждает о страдании в том же ключе благодати и последующего утешения. Бог постоянно присутствует в нашей скорби, как мать, которая делает нужный укол смертельно больному ребёнку: «Нет такой скорби, в которую Господь не вливает хотя бы малую долю утешения. Он не сразу отнимает боль от нашего сердца – она нужна и полезна нам, но Он облегчает ее своим присутствием. Будем только стараться ловить эти светлые лучи, проникающие к нам.
В любви матери, столь естественной и знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для нас любовь Свою ко всякому человеку. Какая любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию или лишая удовольствия, когда она знает, что такое лишение должно послужить ему на пользу. Ребенок плачет, его маленькое горе кажется ему несправедливым, невыносимым, и сердце матери болит при виде этого горя, но имеет в виду благо ребенка, которое для нее дороже всего на свете. Как часто в нашем горе мы бываем похожи на безрассудных детей. Мы плачем безутешно, нам кажется, что посланное нам страшное испытание могло бы миновать нас, что оно выше наших сил, и мы не осознаем того высшего блага, которое мы приобретаем для вечности. Наверное, любящий Господь в Своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас – придет час, когда печаль наша обратится в радость. Мы поймем тогда, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас».
В страдании Божий человек обретает три истины. Он чувствует, что:
1. его страдание не напрасно, а имеет онтологическую, вселенскую важность, как и вся его жизнь;
2. страдание, очистив его, введёт его в свет;
3. свет не только будет потом, но и сейчас уже с ним, потому что Христос реально присутствует в глубине его страданий.
Человек испытывает острую муку, но одновременно эта острая мука становится острой радостью.
Все лучшие люди земли страдали, и все в конце концов увидели опыт страданий как небесный дар.
Бог меньшей болью защищает нас от большей боли, которая могла бы прийти к нам в будущем, если бы не было у нас меньшей боли.
Поэтому святой Иустин Сербский говорит: «Всякое страдание благо ради незаменимого Господа».
А святой Силуан Афонский каждого страдающего уверял: «Господь тебя неизреченно любит».
Доверие Богу и в страдании есть подвиг для человека. Человек, конечно же, желает избавления от страданий, и Бог даёт ему для этого средство – любовь тех, кем он любим. По мысли святого Серафима Саровского, Благой Бог не хочет, чтобы мы жили в одних только скорбях, и посылает нам тех, кто своей любовью и жалостью принимает нашу боль на себя, исполняя этим заповедь «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов».
В Ветхом Завете есть такие слова Господа: «Утешайте, утешайте народ Мой». Сам Бог хочет, чтобы мы были утешены и Им, и друг другом. Когда мы утешаем друг друга по любви, в этот момент Сам Бог нами утешает другого несчастного человека, потому что Он хочет, чтобы всем было и светло и хорошо.
Авва Дорофей говорит, что «Бог настолько благ, что Он хочет, чтобы мы не хотели ничего из того, что Он попускает». То есть когда с кем-то случилось несчастье, мы не должны говорить, что такова Божья воля, чтобы он страдал, но обязаны всё сделать для того, чтобы тому человеку снова стало хорошо. Делая это, мы можем быть уверены, что и Бог хочет света, и радости, и мира для того страдальца, которому мы помогаем.
В завершение приведём слова Христа, которые Он сказал однажды Иосифу Исихасту: «И поверь тому, – писал афонский старец Иосиф Исихаст, – что я тебе скажу. Однажды из-за следующих одно за другим ужасных искушений возобладали во мне печаль и уныние. И судился я с Богом, что это несправедливо, что Он предаёт меня в столь многие искушения, не сдерживая их хоть немного, чтобы я хотя бы перевёл дыхание. И в этой горечи услышал я голос внутри себя, очень сладкий и очень чистый, с глубочайшим состраданием: